|
|
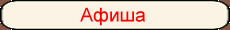
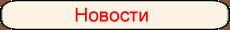
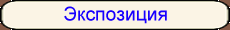
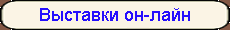
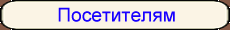
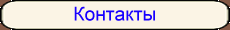
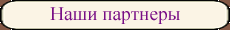
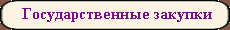
|
ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 15)Эпистолярные комплексы в собрании Одесского историко-краеведческого музея Озерянская И. М. (скачать pdf) УДК 069.1(477.74-21):351.085 И. М. Озерянская Эпистолярные комплексы в собрании Одесского историко-краеведческого музея (по материалам семейного архива Ржепишевских, кон. XIX - нач. ХХ в.) В научный оборот вводится комплекс частной переписки семьи Ржепишевских кон. XIX — нач. ХХ вв., хранящийся в документальном фонде Одесского историко-краеведческого музея. Ключевые слова: Ржепишевские, семья, музей, эпистолярные комплексы.
В каждом музейном собрании, вне зависимости от профиля музея, хранятся эпистолярные памятники. Это могут быть единичные экземпляры, а могут быть и целые эпистолярные комплексы. В последние годы интерес к подобного рода материалам значительно возрос в связи с общими тенденциями, связанными с гуманизацией науки. Личность обычного человека в разных жизненных обстоятельствах привлекает ученых, занимающихся проблемами социума: «свести историю с пьедестала науки об обществе в ранг науки о человеке в обществе» [1, с. 121]. Акценты сместились из обстоятельств, окружающих человека, на человека в конкретных обстоятельствах, на «обычного человека» с его страстями и мыслями [2, с. 21, 25]. В связи с этим возрождается интерес исследователей к изучению т.н. локальной истории, который связан с влиянием методологических новаций «новой исторической науки»: происходит смена историографических приоритетов — обращение к антропологически ориентированной социальной истории [3, с. 201]. Наряду с воспоминаниями и дневниками, письма (эпистолы или эпистолярии) приобретают немаловажное значение. «Специфика писем, — писал В. А. Сметанин (основоположник новой вспомогательной исторической дисциплины — эпистологии), — заключается в особо ярком проявлении субъективного восприятия современных событий. Это требует более критического отношения к эпистолярному наследству, но вместе с тем убеждает в солидной значимости писем как исторического источника» [4, с. 3-4]. Именно этот вид письменных источников даёт возможность рассматривать объект во всей сложности, множественности свойств, качеств и их взаимосвязей, обладает высокой степенью репрезентативности [5, с. 21]. Сегодня наблюдается археографический «взрыв» по частной переписке, который исследователь истории украинской археографии О. И. Журба объясняет «переориентацией гу- манитаристики с макро- на микропроцессы, особенно на проблемы роли и места человека в обществе» [6, с. 16]. Переписка близких людей — родственников и друзей отличается особенной откровенностью. В письмах, помимо приватных моментов, искренне и без опаски излагались (передавались) новости местной и заграничной жизни, различные слухи и собственная оценка последних [7, с. 21]. Особого внимания заслуживают эпистолярные комплексы, образующие семейную переписку, которая является одной из наименее изученных в историографическом плане разновидностей эпистолярных источников [8, с. 50]. Между тем в XIX — и до середины ХХ в. в среде образованного класса эпистолярная культура была частью общей культуры, поэтому письма, в том числе письма друг к другу членов одной семьи, составляют важнейшую часть семейных архивов. Семейная переписка может служить источником для изучения образа жизни, мировоззрения, психологии кор Эпистолярный комплекс семьи Ржепишевских — это более 650 писем личного характера. Основными корреспондентами являлись супруги Михаил Иванович и Мария Антоновна Ржепишевские. Их переписка составляет около 300 писем. Далее идут письма родственников семьи — 202 письма, подруг и знакомых Марии Антоновны и Михаила Ивановича — 64 письма, сотрудников Подвижного музея учебных и наглядных пособий1 — 44 письма. Самое раннее письмо датируется 1896 г., но основная масса писем относится к 1900-м годам, отдельные письма 19201940-х гг. В данной публикации рассматриваются письма, относящиеся к первому десятилетию ХХ в. Михаил Иванович Ржепи- шевский — сын штаб-офицера, родился в 1877 г. в г. Бельцы, учился в Херсонской гимназии, закончил Новороссийский университет, преподавал в различных учебных заведениях г. Одессы. Мария Антоновна Ржепи- шевская, урожденная Осмоловская, родилась в 1888 г. в г. Одессе. Семья Марии Антоновны ведет свое начало от братьев Стифелей, поселившихся в г. Одессе в 1796 г. и добившихся немалых успехов на коммерческом поприще. Одна из дочерей Стифелей, Генриетта, вышла замуж за майора Михаила Лессара, появившегося в г. Одессе в 1840 г., а их старшая дочь Анна в 70-х гг. XIX в. вышла замуж за присяжного поверенного Антона Ивановича Осмоловского. Младшая дочь Осмоловских, Мария, в 19-летнем возрасте вышла замуж за преподавателя физики Михаила Ивановича Рже- пишевского. Невероятно, но сохранилось документальное подтверждение начала стремительного «романа». Это записка 1906 г. к Ржепишев- скому Михаилу Ивановичу с просьбой о подготовке Осмоловской Марии Антоновны к экзамену по физике [9]. Вероятно, статус жены преподавателя мотивировал Марию Антоновну продолжить свое образование. В 1912 г., оставив пятилетнего сына Юрика на попечение матери, Анны Михайловны, Мария Антоновна уезжает в г. Ананьев, чтобы в местной Мариинской гимназии сдать экстерном экзамены за 7-й класс. Почему был выбран именно г. Ананьев, мы можем только предполагать. Мария Антоновна училась в г. Одессе в частной гимназии С. И. Ви- динской, но в связи с болезнью, а затем замужеством и рождением ребенка занятия пришлось на время оставить. В дальнейшем для планируемого поступления на Высшие женские курсы необходимо было получить свидетельство об окончании гимназии, причем государственной. Попасть в число экстернов в те годы было не просто. Существовал определенный лимит для гимназий г. Одессы на выдачу аттестатов зрелости для посторонних лиц (экстернов), их число Уездный г. Ананьев был выбран для Марии Антоновны, вероятно, по нескольким причинам: известная своим приличным преподавательским составом женская Мариинская гимназия [10, с. 175, 176], наличие знакомых в городе, в том числе и среди преподавателей, близкое расположение к п. Любашёвка, где в то время проживала сестра Михаила Ивановича — Зинаида Ивановна Сиземская. Письма Мария Антоновна писала каждый день, а иногда и по два в день. Волнения перед каждым экзаменом, жалобы на плохую память, характеристики экзаменаторов и различия в правилах сдачи экзаменов для учеников гимназии и экстернов — вот чем полны были эти письма. А еще перепады настроения, тоска по дому, по сыну, немедленное требование к Михаилу Ивановичу приехать, а затем извинения и клятвы всё стерпеть и довести начатое до конца. Жила Мария Антоновна на квартире у учительницы Марии Яковлевны Рожковой, которая помогала ей готовиться к экзаменам и с которой у нее сложились очень теплые отношения. После первой неудачи со сдачей экзаменов Мария Яковлевна успокаивала, что «важен не диплом, а знания, которые помогут в жизни... правильно воспитывать детей и подняться до уровня «ученого мужа» [11]. Вместе с Марией Антоновной в г. Ананьев поехал и младший брат Михаила Ивановича, Константин. Ему необходимо было сдать экстерном экзамены, чтобы получить звание народного учителя, а тем самым освобождение от воинской повинности. Мария Антоновна всячески опекала шурина, переживала за его душевное и физическое состояние: «...у Коти всё плохо с сочинением: содержание хорошее, а ошибки грубые; если Котя провалится, то надо предложить им с Зиной переехать в деревню поработать учителями; Котя весной опять сможет сдавать на народного учителя; если денег не будет хватать, то можно посылать рублей 15 или 20 в месяц» [12]; «...Котя бедствует, но денег брать не хочет и не хочет жить за счет других. узнай, может его возьмут на работу в Кредитное общество, если у него есть свидетельство за 6классов, может ли он быть народным учителем... почему не купил Коте пальто?...пришли денег — 10рублей, ты забыл... насчет Котиного сочинения ничего не ясно пока» [13]. Михаил Иванович как мог успокаивал жену, порой прибегая к нравоучениям: «ведь смысл всей нашей жизни только и заключается в надежде, а те люди, у которых потеряны все надежды обыкновенно кончают сами счеты с жизнью...» [14]. Письма Михаила Ивановича более информативны, с подробным описанием семейных дел, занятий с сыном, отношений с мамой — Анной Михайловной Осмоловской: «...ходили сегодня с Юриком в Отраду, посмотреть одно место, которое советую маме купить и построить небольшой дом-особняк, и жить там всегда. ...это на Уютной улице, возле того хорошенького дома-особняка с террасой, что мы с тобой видели» [15]; «...сегодня у нас начали проводить электричество... теперь надо приобрести лампочки. Пока включаются 10лампочек, а осенью остальные 14, так что на всю квартиру — 24. Нам это будет стоить рублей 50, но переходя на другую квартиру мы можем все забрать с собой» [16]; «...сегодня мама была в Земской управе у Аргутинского, и он сказал ей, что земство имеет в виду ее дачу на Холодной Балке для размещения грязелечебницы... они постараются приобрести этот участок» [17]; «...здесь, в Одессе, Комиссия, которой Губернское Земство поручило подыскать место для бактериологической станции. Так вот, я посоветовал маме предложить им Большой фонтан. Нужно было написать заявление, снять план, разыскать этих господ, переговорить с ними...» [18]; «...завтра все едут на Холодную Балку. Мама остается на 2-3 дня, чтобы все привести в порядок, т.е. скорее в беспорядок, потому что она совершенно не в состоянии ничего делать и страшно устает, кроме того она все забывает, точно, как «баба»[1]. «...жара страшная, а прошлой ночью был ливень, размыло рельсы Хаджибейского трамвая...» [19]; «...здесь образовалось общество заботы о детях[2]. Вольфензон[3] состоит в совете этого общества, и он предложил мне принять активное участие в этом обществе. Я принципиально согласился, ...кроме того мне хочется, чтобы и ты приняла там участие, т. к. это интересно и для Юрика» [20]; «...вчера был в театре. Я первый раз видел «Ревизора». Давыдов1 хорошо играет... Во всяком случае я получил удовольствие» [21]; «...сегодня у нас «колос ржи»,2 устраиваемый Красным крестом, и я пока не купил ни одного колоса, думаю, что и дальше воздержусь. Продает довольно подозрительная публика... интересно знать, какой будет сбор» [22]; «...вчера был в заседании общества бывших воспитанников Новороссийского Университета3 в первый раз, и сразу уже меня выбрали в комиссию по устройству осенью банкета, который устраивается каждый год...банкет этот должен иметь большое значение для сближения между членами этого общества и послужить сигналом к возрождению и обновлению его. Поэтому мне интересно принять участие в этой комиссии» [23]. В письмах Михаил Иванович много внимания уделял главному своему детищу — Подвижному музею учебных и наглядных пособий при Одесском отделении Императорского Русского технического общества [24, с.11-12]. Целью создания Музея была просветительская деятельность на ниве народного образования, но для материальной поддержки необходима была коммерческая составляющая. Для этого при музее действовали мастерские, изготовлявшие и продававшие наглядные пособия (гербарии, макеты, чучела и проч.) по различным учебным программам. Это всегда было камнем преткновения между Михаилом Ивановичем, ратовавшим за просветительство, и руководством Технического общества, видевшим в музее только средство для зарабатывания денег: «...вечером был на собрании в «Урании», где решено было сделать попытку восстановить Лекционный комитет, каким он был при Городской Аудитории» [25]; «...Завьялов4 гнет более в сторону того, чтобы читать лекции за плату и для средней публики, а Пекаторос5 и Петровский,6 чтобы восстановить прежний Лекционный комитет и читать для рабочих. 1 Владимир Николаевич Давыдов (наст. - Иван Николаевич Горелов), 7(19). 01.1849- 23.06.1925, русский актер. «День колоса ржи» — уличная благотворительная акция в помощь пострадавшим от неурожая. «Общество вспомоществования бывшим воспитанникам Императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея», учрежденное в 1885 г. Василий Васильевич Завьялов, 1873- 1930, профессор физиологии, приват-доцент Новороссийского университета. Георгий Михайлович Пекаторос, 1864 — ?, кандидат естественных наук. Алексей Филиппович Петровский, преподаватель Одесского кадетского корпуса, член правления Одесского педагогического общества взаимопомощи. Танфильев[4] и Вериго[5] думают об Обществе естествоиспытателей. Таким образом — три течения. Все они совместимы, хотя легче всего осуществить первое, труднее — второе» [26]; «завтра общее собрание, в котором Галюзман[6] предполагает сделать доклад о денежном состоянии музея и кстати, я выясню с ним, как обстоит дело с мастерскими. Если плохо, то постараюсь поскорее ликвидировать, чтобы не запутаться совершенно...я не могу органически вести дело совместно с людьми, которые не могут или не хотят жить этим делом, интересоваться им, как делом, а не только как источником средств к жизни...лучше отдавать средства и время просветительному делу, как например, лекции и Музей.» [27]. По докладу Галюзмана оказалось, что «финансы плохи, а мастерская особенно плохо стоит» [28]. Михаил Иванович принимает решение о закрытии мастерских: «... я хотел бы только развязаться с ними, освободиться от них...потому что эта бесконечная трата денег и выискивание их, меня уже утомляет» [29]; «...сегодня говорил рабочим, что с завтрашнего дня начинаю ликвидировать мастерские в течение двух месяцев и объяснял им причины. Говорил им также, что если они хотят, могут взять мастерские на себя, работая на свой риск и страх, но что музей не в состоянии больше вести дело, которое приносит убыток. Кто виноват в этом, конечно, предоставляю судить им самим, так как я всегда предупреждал их, что плохое ведение дела с их стороны, ляжет тяжестью и на них, потому что они потеряют заработок. Конечно, страдающим лицом здесь являюсь больше всех я, хотя выгоды от этого дела я не имел никогда» [30]. О своих планах на будущее: «Знаешь, я решил не давать в будущем году частных уроков...Когда не будет мастерских, у меня освободится время, и денег не будет столько уходить, и я думаю, тогда можно будет иметь достаточно времени для занятий. Ты будешь на курсах, а я тоже буду заниматься, и будет хорошо» [31]. Письма Михаила Ивановича жене полны впечатлений от встреч с общими знакомыми, об отдыхе в Холодной Балке, о гостях и развлечениях: поездки на велосипедах, катание на лодках по лиману и проч. На это Мария Антоновна даже отреагировала в письме к матери: наряду В октябре 1912 г. Мария Антоновна с сыном Юриком и матерью Анной Михайловной уезжают на курорт в Италию. Если считать, что супруги писали друг другу письма каждый день, то написано было не менее 300 писем за почти пять месяцев пребывания за границей. В архиве сохранилось 120 писем (46 от Марии Антоновны и 74 от Михаила Ивановича). Эта переписка вполне могла бы стать романом в письмах, настолько они информативны и в то же время вполне отвечают определению «субъективного восприятия мира». В следующем году Марии Антоновне вновь пришлось сдавать экзамены в Ананьевской гимназии. Писем Марии Антоновны этого периода не сохранилось и о происходящих событиях можно судить только по ответным письмам Михаила Ивановича: «я думаю, что тебе дадут свидетельство, потому что в прошлом году тебя обидели, так в этом году постараются загладить. Да кроме того, ведь нельзя же дать свидетельство на 6 У классов, а за 6у тебя уже есть» [33]. Одной из главных тем в письмах Михаила Ивановича в этот период были выборы в Городскую думу 1913 г., в которых он принимал участие от т.н. «прогрессивной группы избирателей», сконцентрировавшейся вокруг инженера М. В. Брайкевича1. Их противники во главе с присяжным поверенным Б. А. Пеликаном[7] добились пересмотра итогов выборов, и 19 мая 1913 г. Пеликан стал новым городским головой. Эти выборы вошли в историю г. Одессы как первые скандальные, в которых использовались все современные нам политические технологии: админресурс, подкуп избирателей, «карусель», «черный пиар», угрозы и т.п. Об этом пишет Михаил Иванович в письмах: «... подсчет голосов до сих пор не закончился, но безусловно победили но- водумцы. Пеликановцы уже сложили оружие и не приходят даже на подсчет, считая свое дело проигранным» [34]; «...подсчет сегодня закончится и вечером будем знать, кто победит. Если градоначальник не опротестует выборов, то через неделю мы будем уже заседать» [35]; «...передают, что выборы не будут утверждены. опять начнется предвыборная работа и выборная страда. Новодумцы надеются, что они возьмут теперь верх, если бы даже соединились против них пеликановцы и моисе- евцы. Мне будет очень жаль, если мы провалимся. Так много хотелось бы и можно было бы сделать хорошего, но при условии, что город опять попадет в руки этих гнид, едва ли что- нибудь можно будет сделать, кроме дальнейшего разорения города» [36]; «.ходят слухи, что наши выборы будут кассированы, т.к. пеликановцы помирились с моисеевцами и мне представляется перспектива сидеть в помещении Музея целых 4 года, т.к., наверное, они не дадут нового места для Музея, если возьмут верх. И хочется бросить всё, и уехать куда-нибудь в другой город, где нет такой мерзости, как здесь» [37]; «...выборы от-
1 Михаил Васильевич Брайкевич, 1874- 1940, инженер, экономист, коллекционер, меценат, общественный деятель, председатель Одесского отделения Императорского Русского технического общества. менены и новые будут назначены или же 19 мая или 26-го. Мы опять готовимся к войне...» [38]; «...в воскресенье выборы и мне не хочется на этот день уезжать из Одессы... Сосновский1 говорит, что ему нужна «правая» Дума, что он надеется, что примирение Пеликана и Моисеева2 дадут эту Думу, но будет скандал, если он ошибётся. Он говорит, что примет все, зависящие от него меры, чтобы не было мошенничества, т.к. хочет, чтобы «правая» Дума прошла честно» [39]; «.если меня назначат счетчиком, я буду занят часов до 10 вечера счетом голосов. Завтра выборы и борьба в полном разгаре. Господа пеликановцы и их союзники, моисеевцы, доходят до крайних пределов наглости. Вчера они сделали вооруженное нападение на контору Штерна, предполагая, что там списки новодумцев. Но там ничего не было, зато они нарвались на большие неприятности, т.к. трое служащие в конторе Штерна — иностранцы, и они заявили о нападении своим консулам, которые немедленно поехали к Сосновскому за объяснениями. Что из всего этого выйдет, неизвестно, но пока все в городе этим возмущены, а наши шансы вследствие этого поднялись» [40]; «.мы очевидно проиграли сражение, потому что они толпами, на автомобилях, всем, кому попало, всучивали списки. Досадно, что еще 4 года придется терпеть эту гадость и грязь. О здании для Музея надо забыть» [41]. Одесские газеты подтверждают слова Михаила Ивановича: «...выборы протекают необыкновенно оживленно, десятки автомобилей и экипажей обслуживают различные партии, Думская площадь запружена. Масса полиции охраняет порядок, но все же отмечен ряд случаев насилия над новодумцами. Так разрезаны шины и тем выведены из строя два новодумских автомобиля. Пеликанов- цы раздают подложные воззвания, якобы от имени новодумцев. Счетчиками назначены исключительно правые» [42]. Но. экзамены у Марии Антоновны заканчиваются, скоро возвращение домой и планируемая поездка на Кавказ, которая осуществилась только через год, в июне 1914 г. В письме к матери Анне Михайловне с Военно-Грузинской дороги — из Тифлиса во Владикавказ — Мария Антоновна описывает красивые места, которые они проезжают в «линейке» на 8 человек, но жалуется на дождливую погоду [43]. 1 Иван Васильевич Сосновский, 1868— после 1917, действительный статский советник, одесский градоначальник (1911-1917). Николай Иванович Моисеев, 1858- 1915, действительный статский советник, одесский городской голова (1909- 1913). Большой комплекс писем составляет переписка супругов Ржепишевских с братьями и сестрами Михаила Ивановича. Александр Иванович Ржепишевский родился в 1879 г. в г. Аккермане. Закончил с отличием Институт гражданских инженеров в г. С.-Петербурге, стажировался в Сорбонне, стал известным архитектором в г. Харькове. После революции пытался уехать заграницу, но оказался в г. Москве, где и умер от инсульта в 1930 г. Александр Иванович был человеком обеспеченным, и основная тяжесть финансовых проблем менее удачливых родственников ложилась на его плечи. Письма, адресованные ему, почти всегда содержали просьбы о денежной помощи. Особенно это касалось брата Леонида, сидевшего в Бутырской тюрьме в г. Москве и Михаила Ивановича, находящегося под арестом в г. Одессе: «. был очень свободно принят Главноуправляющим Канцелярией по принятию прошений на Высочайшее Имя штальмей- стером бароном Александром Александровичем Бутбергом[8]... просил по возможности посодействовать скорейшему решению. Он сказал, что надеется, что ты будешь помилован, но ...это займет время, т.к. твое прошение только что поступило. ...мне сказали, что ты должен обратиться к господину Одесскому градоначальнику об отсрочке твоего заключения в крепость до получения заключения по твоему делу из Канцелярии» [44]; «Вчера я был у одной особы, которая знакома со всей чиновной ратью. Я ей рассказал о твоем деле... что главная причина того, что ты просишь о помиловании — есть твоя боязнь за судьбу музея, который ты устроил в Одессе и который только на тебе и держится...что в случае твоего заключения все это может пойти насмарку» [45]. Леонид Иванович Ржепишевский родился в 1885 г. в г. Оргееве. Обучаясь в Новороссийском университете на естественном факультете, примкнул к анархистам. За участие в попытке экспроприации для партийной кассы привлечен к уголовной ответственности. Суд определил ему меру наказания — пожизненная каторга, причем, 8 лет в кандалах в Бутырской тюрьме, в г. Москве. Находясь в тюрьме, Леонид женился на студентке консерватории Надежде Суходольской. Венчание проходило в тюремной церкви в присутствии надзирателей, на это время ему разрешили снять кандалы. В тюрьме Леонид устроился на работу в столярную мастерскую, где изготавливал всевозможные поделки (шкатулки, рамки и проч.), которые затем нелегально продавались руководством мастерской. В письмах, которые он посылал на волю родным, почти нет жалоб, только просьбы: прислать инструменты, книги по химии и что-нибудь легкое, о путешествиях: «...да, книги я просил приносить для двух целей. Читать их я буду, это раз; два — они будут вам возвращаться; и три — в переплетах тех из них, у которых будет перечеркнута карандашом 17 страница будут письма...» [46]. О жизни в тюрьме: «...нет тех ужасов, которые загнали на тот свет в предшествовавшие годы 25% каторги. Работаем себе полегоньку. Если имеешь средства, то можешь жить хорошо и материально. В каждой мастерской есть плита, где можно варить себе пищу. Хотя и казенная пища хороша. Камера у меня теплая, сухая, светлая. Народ — пожаловаться не могу» [47]; «.ну, посмотрим, что даст Новый год. Мы как истинные каторжане, ждем от него и желаем себе манифеста, а вам желаю всего лучшего. Миху — здания для музея. Коте — больше желаю не держать экзамена, чем выдержать его» [48]. Сохранилось письмо Леонида Ивановича от 15 марта 1917 г. после освобождения из тюрьмы: «ну вот, дорогой Миша, я уже вполне гражданин новой России. Вчера получил в этом письменное удостоверение. Москва так уже освоилась с новым порядком, что я положительно преклонюсь перед ней. Я всегда был к ней равнодушен, а зимой даже не любил за суровость. Вчерашние рабы, после 2-3-х дней не злобствующей радости, и радости действительно всеобщей, взялись за обычный труд, так как будто прошли три дня Пасхи и началась обычная трудовая жизнь. Разница только в том, что в свободное от труда время все спешат в те здания, где как будто уже давно развеваются красные флаги. А ведь эти флаги реют всего одну неделю. Вот почему я не удивляюсь, если даже самые оптимистические мечты и чаяния осуществятся. Ни назад, ни даже на месте мы не остановимся уже. Я верю в это так, как не верил даже тогда, когда голосовал в Университете за забастовку до созыва Учредительного собрания. Миша, а вот дождались уже! Теперь можно приниматься и за личную жизнь, и в общественную жизнь не вносить ни боевого, ни уголовного элемента. Вот об этом я теперь и подумываю. Больше всего я хотел бы работать в области химической технологии, т.к. кажется мне, что эта работа может мне дать и духовную, и материальную пищу. План на будущее у меня такой. Т.к. за 9 лет я растерял многое из того, что знал (а знал я мало), то я не могу рассчитывать на то, что мне могут доверить какое-нибудь самостоятельное руководство делом. Да я и сам не возьму. А вот поступить сначала на один-другой завод, присмотреться к делу, изучить его и тогда с сознанием своего права взять на себя руководство более или менее независимого предприятия. Таково мое намерение. Если мне удастся его осуществить, то я думаю, что к зиме я уже буду в состоянии за приведение в жизнь своей инициативы. Я страшно хочу быть совершенно независимым ни материально, ни морально... если я потерял 9 лучших лет жизни, то это главным образом потому, что я не мог идти проторенной дорогой за вожаками. Энергии у меня воз» [49]. Дополнительные, и весьма неутешительные, сведения о пребывании Леонида Ивановича в тюрьме содержатся в письмах его сестры — Елены Ивановны. Она была замужем за Виктором Адольфовичем Минкевичем, жила в г. Москве, и в основном занималась делами брата: посещала его в тюрьме, носила передачи и просила старших братьев Александра и Михаила помочь деньгами. О посещении Лёни в тюрьме: «...свидание полчаса, выглядит плохо, хрипит, говорит с трудом; просил лекарство, но денег нет, чтобы купить» [50]; «...получили посылку с книгами для Лёни; просит прислать что-нибудь лёгкое для чтения (путешествия); просил еще прислать ему инструменты для того, чтобы делать чучела; начальник разрешил и даже сказал, чтобы Лёня взял себе 3-4ученика. Птиц можно доставать в птичьих магазинах, а готовые чучела отсылать в Музей; просил еще рыбий жир и другие лекарства. Настроение у него хорошее, но выглядит ужасно. Кандалы не сняли;хочет проситься в другую тюрьму (в Сибири), из которой легче уйти в «вольную команду» [51]. Еще одна сестра Михаила Ивановича, Зинаида, была замужем за врачом Сиземским, работавшим в земской больнице в п. Любашёв- ка. Ее письма полны тревог за близких: о муже Александре Евгеньевиче, который заболел туберкулёзом, о желании уехать из нелюбимой Любашёвки в любимую Одессу; о бедственном положении семьи младшего брата Константина, ожидающей ребенка; о брате Леониде, пребывающим в тюрьме...и просьбы к Михаилу Ивановичу и к Александру Ивановичу — помочь с деньгами. У Марии Антоновны наиболее близкие отношения были с сестрой Анной, в замужестве Полевой. Семейная жизнь у Анны не сложилась, и она помогала Марии с воспитанием сыновей — Юрика и Павлуши. Сферой профессиональной деятельности Анны Антоновны стала педагогика. До революции она была народной учительницей, преподавала в воскресных школах, а в советское время работала в различных детских учреждениях. Из воспоминаний Павла Михайловича Рже- пишевского: «Тетя Аня — маленькая сгорбленная старушка, быстро семенящая из комнаты в комнату, из комнаты в кухню. Обязательно крепкий черный кофе по утрам и отвратительное морковное пюре на обед. Требовательность к людям, взрослым и маленьким, доходящая до придирчивости, и вместе с тем, — глубокий интерес и внимание к их делам, горячее желание всегда прийти на помощь. «Надо бороться. Надо добиваться» — эти ее слова в равной степени могли относиться как к преодолению трудностей в жизни одного человека, так и к непорядкам в масштабе всего государства» [52]. Михаил Иванович Ржепишевский, будучи человеком независимых и прогрессивных политических взглядов, не мог оставаться в стороне от тех процессов, которые происходили в империи на рубеже XIX-XX вв. Поэтому, едва поступив в 1895 г. в университет, он принимает активное участие в студенческом движении. В 1899 г. Михаила Ивановича арестовывают первый раз: 2 месяца в тюрьме. Вероятно, в связи с этим он переходит с 5-го курса математического отделения университета на 1-й курс только что открывшегося медицинского, но его опять арестовывают и высылают на два года из Одессы. После ссылки Михаил Иванович сдает экзамены по курсу математического отделения и по предложению профессора Клоссовского[9] начинает работать в метеорологической обсерватории. Кроме того, он преподает в Одесском пехотном юнкерском училище, в частных гимназиях и воскресных школах. В 1907 г. Михаил Иванович вновь был арестован и провел 3 месяца в заключении за организацию Одесского отделения Всероссийского учительского союза[10]. В 1908 г. — арест по обвинению в политической агитации среди курсантов юнкерского училища. Газета «Одесское обозрение» поместила заметку о том, что «бывший преподаватель одесского пехотного юнкерского училища М. Ржепишевский был приговорен Одесской судебной палатой к заключению в крепость на 6 месяцев за антиправительственную пропаганду среди юнкеров. Осужденный подал прошение на Высочайшее имя о помиловании. В палате получено сообщение, что прошение Ржепишевского оставлено без последствий» [53]. Сохранилась так называемая «тюремная переписка» Михаила Ивановича 1909 г. — около 70 писем. Но этот эпистолярный комплекс требует особой научной обработки, так как неотделим от изучения сопутствующих документов (постановлений об аресте, протоколов допросов, обысков, приговоров и проч.), общей картины происходивших событий, особых правил тюремной переписки и т. д. Большая семья, открытый дом — всё это предполагало большой круг знакомых и друзей. Общение не только личное, но и по переписке. Обычным делом было переписываться, даже находясь в одном городе: на конверте писали «Местное» или «Здесь». Если же кто-то уезжал, то переписка была тем более необходима. Помимо сведений о местопребывании, а здесь очень интересны личные впечатления, масса вопросов о прежней жизни, об оставленных друзьях и знакомых. Очень часто письмам доверяли самое сокровенное, писали о своих душевных терзаниях и мечтах, выясняли отношения — то, о чем тяжело было сказать лично. Несколько таких писем сохранилось в архиве. Среди них письма подруги детства Марии Антоновны (в то время еще Осмоловской) — Натальи Трутовской. Наталья была дочерью Алексея Яковлевича Трутовского, заведующего грязелечебницей в с. Холодная Балка на Хад- жибейском лимане. У Стифелей-Осмоловских там было имение и каждое лето большое семейство с многочисленными гостями выезжало туда на отдых. Переезд на дачу готовился несколько дней и был хлопотным делом. Мария Антоновна вспоминала: «...в Холодной Балке у нас была посуда, матрацы, обстановка. С собой везли ящики с крупами, мукой и т.д. Везли подушки, два сундука с платьем и бельем. Отдельная подвода везла уголь и керосин. Кухарка и горничная ехали на подводе с вещами. Бабушка и мы ехали в экипаже — закрытое помещение, квадратное, темное и душное, внутри все из сукна. Ехали часа 3. Можно было ехать поездом до Гниляково (Дачная) минут 35...» [54]. Земский врач и его две дочери входили в круг знакомых семьи и прекрасно проводили время, о чем вспоминает в своих письмах Наталья. Они относятся ко времени, когда доктор Трутовский получил назначение на работу в земскую больницу г. Елисаветграда. Впечатление о городе самое неблагоприятное: «...многие улицы не мощеные и пыли по косточку» [55]. О частной гимназии Ефимовской: «... пошли 31 августа на молебен, а 1 сентября уже начались занятия. Если бы ты знала...как в этой гимназии свободно... ученицы все ходят обнявшись с классными дамами и учительницами. Начальница тоже очень славная...» [56]. Далее идут подробные описания учениц, школьных порядков, праздников, случаев на уроках и проч. И вдруг письмо от 5 октября 1905 г.: «Боже! Какой ужас, я представить не могу, что люди могут дойти до такого зверства. Около нас тоже был погром, даже в больницу врывались. Я не знаю, как это папе удалось сдержать хулиганов. У нас в гимназии тоже не спокойно. Мы с 14 октября уже не занимаемся, все учебные заведения будут закрыты. У нас были сходки, на которых мы обсуждали наши дела и еще три ученицы были выбраны делегатками, и мы вместе с делегатами других учебных заведений выработали наши требования, которые мы передали родителям, а родители начальству...» [57]. Через 5 месяцев: «...вот и теперь осталась без гимназии. это произошло после ужасного погрома. Русские ученики в 1 классе потребовали удаления евреек. Начальство не приняло никаких мер. Тогда мы вступились... устроили что-то вроде сходки. Вскоре пришла наша фурия (начальница) и нас выгнала с ругательствами и ужасными криками и запретила нам являться в гимназию на уроки. Исключая конечно хулиганок, которые заявили, что они не принимали ни в чем участия, хотя это ложь. Потом на собрании начальница отказалась от своего поступка и от того, что она нас выгнала. И сказала, что она просит, чтобы мы приходили. Некоторые пришли, а нас душ 12 не пошло. Но я очень рада, что ушла, потому что все равно не смогла бы заниматься в такой хулиганской гимназии, и мы устроились гораздо лучше. Группа в 7 человек наших учениц образовали «Свободную школу». Занятия идут очень хорошо. Хорошо так учиться...» [58]. В следующем письме, через 2 дня: «Я теперь взялась серьезно заниматься. И кроме того читать более или менее серьезные книги... Все эти события заставили меня немного призадуматься и изменить свои взгляды и отношение ко многому. Какой ужас у нас теперь творится в России. Какая масса хороших людей сидит по тюрьмам. Они уже не знают куда и сажать, а главное, что масса людей сидит без всякой причины, и эти подлецы сами не знают, за что они томят бедных людей. У нас в маленьком городишке и то сидит больше тысячи, а что уже творится в больших городах. А что они с крестьянами творят! У нас в одной деревне до смерти несколько душ засекли. А сколько голодных рабочих! Ужас, ужас. » [59]. Осенью продолжение истории, которая не прошла для Натальи Трутовской даром: «.«срезали» на диктанте... нас считают забастовщицами, за то, что мы не могли примириться с подлостью Ефимовской (начальницей гимназии)» [60]. Но началась «новая жизнь» и «жалеть нечего»: «Вот уже три недели как я хожу в тюрьму к одному политическому. Пошли в тюрьму мы совершенно случайно. Я и Соня пошли к тюрьме и начали говорить через окно с политическими, они и говорят нам, чтобы мы пошли на свидание. Ну, конечно мы пошли и познакомились, славные они. Вот теперь каждую субботу и вторник ходим, носим им книги и газеты, хотя это строго преследуется. Если бы ты знала, как мне их жаль, они такие бедные. Как тяжело уходить от них. Не знаю, что бы я сделала, если бы можно было только их освободить. Вот ты только подумай, это так дико, взять запереть людей и не выпускать, лишать их свободы. Это так ужасно. Ничего, когда-нибудь за все им отплатится, за все мучения и лишения, которым они теперь подвергаются. Я теперь решила, как можно больше тратить времени на чтения, чтобы можно было скорей работать и работать. Так уж хочется приниматься за дело, хорошее дело» [61]. В 1912 г. Наталья учится в С.-Петербурге, в медицинском институте, и мечтает вернуться в Одессу, работать в Холодной Балке. Но планы были нарушены началом Первой мировой войны. Сохранилось два письма о службе медсестрой в полевых госпиталях г. Елисаветграда и г. Жмеринки. Еще одним корреспондентом Марии Антоновны, чьи письма сохранились, была её подруга Раиса Кальфа (из известной в Одессе караимской семьи). Раиса Ильинична была ученицей Михаила Ивановича в Мариинской гимназии, а впоследствии учащейся Высших женских курсов. С другими курсистками она бесплатно преподавала в воскресных школах. Письма её относятся к периоду пребывания Марии Антоновны в Ананьеве на сдаче экзаменов в 1912 г. Новости из Одессы: «...теперь наших курсисток допускают к гос. экзаменам, только нужно сдавать очень много экзаменов, почти всего штук двадцать в общем, а это ужасно трудно. В этом году нескольких наших курсисток начали экзаменоваться при Университете, но экзамены у них идут, кажется довольно скверно, возможно, что ни одна не выдержит. Относятся к ним тоже, говорят, отвратительно, да и подготовлены они неважно, потому что лучшие курсистки отказались в этом году сдавать экзамены, в виду неопределенности положения. Ужасно досадно, что первые курсистки так оскандалились на гос. экзаменах» [62]. Некоторые из сотрудников Подвижного музея уезжали учиться и работать в другие города или заграницу. Оттуда писали подробные отчеты о местных музеях и достопримечательностях, предлагали помощь в сборе материалов для «родного» музея. Так Александр Грекулов1 писал Михаилу Ивановичу о своей поездке в Кишинев: «Представился мадам Остерман: пожилая дама, произвела на меня самое приятное впечатление. Но самое лучшее — это здание музея: целый дворец. Они, впрочем, не особенно хорошо использовали его. Всё производит такое впечатление, что раньше очень много работалось, а теперь ничего не делается. Больше представлена зоология (эмбриология и зоотомия). Самые лучшие вещи — инъекции кровеносных сосудов. М-м Остерман дала мне много советов (она позволила мне осматривать музей когда угодно; для публики он открыт только в воскресенье). Вообще сделано очень мало, если принять во внимание помещение и остальные хорошие условия. Ведь музей не только зоологический. Там можно представить вообще всё, относящееся к деятельности Бессарабской губернии. Там, впрочем, есть кое-что по кустарному отделу, по виноградарству... Музей принес мне много пользы. Много зоологических препаратов сделаны великолепно. Консервировка замечательная. Но многое можно и закритико- вать...» [63]. Из г. Лозанны писала Вера Нагорская, которая училась в местном университете на медицинском факультете [64], из г. Страсбурга — Абрам Берков [65], из г. Франкфурта- на-Майне — Николай Френкель, бывший заведующий физическим кабинетом в музее [66] и другие. Мария Антоновна также была вовлечена в сферу интересов мужа и музейных дел. Когда она с матерью Анной Михайловной в 1907 г. путешествовала по России, Михаил Иванович просил ее: «...если есть там какие-нибудь особенности в одежде или в домашнем обиходе крестьян, то хорошо было бы раздобыть это для характеристики этнографии... может в этой местности есть какие-нибудь изделия кустарные... может быть, лапти... тоже хорошо было бы раздобыть... жаль не напомнил тебе, что на Нижегородской ярмарке в кустарном отделе можно было бы кое- что раздобыть» [67]. Работа над эпистолярными комплексами архива семьи Ржепишевских только началась. Хотя отдельные письма представителей этой семьи уже публиковались. Например, письма Павла Михайловича Лессара [68]. Предстоит еще работа над «тюремной перепиской» Михаила Ивановича. Отдельной публикации, как нам кажется, подлежат материалы, связанные со сталинскими репрессиями, в полной мере коснувшимися этой семьи. И о занимательном путешествии Марии Антоновны в Италию, о чем говорилось выше. В силу разных причин эпистолярная культура, в своем первоначальном виде, уходит в прошлое, появляются новые средства коммуникации. Однако желание объективно взглянуть на исторические процессы подвигает исследователей на изучение частной переписки прошлых времен, что вполне соответствует современным методам гуманитарного образования. [1] Генриетта Семеновна Лессар (урожд. Стифель), 18281913 гг. «Общество заботы о детях» при Одесском отделении Императорского Русского технического общества. Григорий Маркович Вольфензон, инженер-техник, товарищ председателя Одесского отделения Императорского Русского Технического общества, член правления «Общества заботы о детях». Бронислав Фортунатович Вериго, 1860- 1925, профессор физиологии Новороссийского университета. Исай Борисович Галюзман, 1825- 1921, кандидат естественных наук, заместитель председателя фотографического отдела Одесского отделения Императорского Русского технического общества. Борис Александрович Пеликан, 1861- 1931, адвокат, монархист, общественный и политический деятель, одесский городской голова (1913- 1917). Александр Андреевич Будберг, 1854- 1914, барон, действительный статский советник, шталмейстер, член Государственного совета. [9] Александр Викентьевич Клоссовский, 1846- 1917, профессор, создатель (1894) и руководитель метеорологи ческой обсерватории Новороссийского университета. Всероссийский учительский союз — профессиональнополитическая организация, создан 09.06.1905 г. как союз учителей и деятелей по народному образованию с целью борьбы за политические свободы, созыв Учредительного собрания, демократизацию и децентрализацию народного образования.
|