|
|
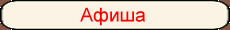
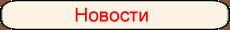
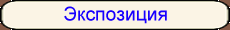
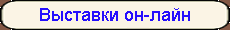
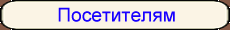
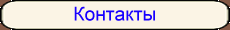
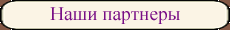
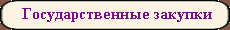
|
ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 15)Ушер Хитер и Элюким Мальц: в поисках затерявшихся экспедиций Еврейского музея в Одессе Котляр Е. А. (скачать pdf) УДК 727:069:910.4:94(477.74-21) E. А. Котляр Ушер Хитер и Элюким Мальц: в поисках затерявшихся экспедиций Еврейского музея в Одессе В статье рассматривается довоенный период жизни и творчества двух архитекторов, воспитанников одесской архитектурной школы Ушера Хитера (1899-1967) и Элюкима Мальца (1898-1973), который был связан с работой для Всеукраинского музея еврейской пролетарской культуры им. Менделе Мойхер-Сфо- рима в Одессе. На основе документов и визуальных материалов из ряда музеев и архивов Украины, России и Израиля, а также частных собраний, в т.ч. из семей архитекторов, живущих в Москве, куда переехали Хитер и Мальц в конце 1920-х гг., сделана попытка реконструировать их творческие экспедиции по бывшей черте еврейской оседлости. Всего было совершено семь поездок по Западной Украине — в Подолию и Волынь с целью сбора материалов и экспонатов для музея, создания натурных рисунков и акварелей с видами еврейских памятников — синагог, кладбищ и застройки. Шесть из них удалось датировать точно, а также показать наиболее масштабную и плодотворную экспедицию 1927 г., с точным фрагментом их маршрута, привязанного к сохранившимся письмам, оригиналам работ и репродукциям. Ключевые слова: Еврейский музей, Одесса, коллекция, Ушер Хитер, Элюким Мальц, экспедиция, натурные рисунки, черта оседлости, синагоги, кладбища, застройка.
История Всеукраинского музея еврейской пролетарской культуры им. Менделе Мойхер- Сфорима в Одессе, действовавшего с 1927 по 1941 г. с большим перерывом с 1934 по 1940-е гг., до сих пор во многом покрыта мраком. Многочисленные источники и документы из киевских и одесских архивов еще ждут своих исследователей, хотя общая картина более-менее ясна. Он был единственным специальным музеем «национального» профиля в Украине [4, с. 10, 56] и одним из трех государственных еврейских музеев, действовавших в СССР в межвоенное время наряду с Ленинградским и Самаркандским. Неоднократные попытки открыть подобный музей в других городах республики не привели к успеху, хотя еврейские отделы и подотделы существовали во многих краеведческих музеях, к примеру, в Полтаве [4, с. 35, 37] и Бердичеве [12], не говоря уже об отдельных экспозициях и коллекциях. О широкой известности одесского музея за пределами страны еще в 1930-е гг. свидетельс- Светлой памяти моего учителя академика, доктора архитектуры, профессора Генриха Иосифовича Фильварова (1927-2015) твовала публикация его сотрудника, известного художника Эммануила Шехтмана, вышедшая в Берлине в 1932 г. в немецкоязычном еврейском журнале «Менора» [37]. Благодаря архивным изысканиям директора Одесского историкокраеведческого музея Веры Солодовой мы знаем имена организаторов музея и директоров, некоторых из сотрудников, историю его открытия, некоторые детали формирования и накопления фондов и о десятках тысяч экспонатов, среди ко - торых были памятники традиционного искусства и шедевры живописи. Известны масштабы деятельности музея, его сотрудничество со многими «кружками друзей» музея и его сподвижниками из разных городов России и Белорусии, собиравшими для музея экспонаты, многообещающие планы музея и его контакты со многими институциями. Есть подробные сведения и о перемещениях самих артефактов — вначале в одесский музей из закрытых ранее еврейских музеев других городов СССР, а после его закры К таким открытиям можно отнести сведения, полученные в ходе исследований последних лет о двух бывших одесситах, впоследствии москвичах, Ушере Хитере и Элюкиме Мальце [5, с. 127-129]. Оба они как агенты музея еще в молодости участвовали в поездках по городам и местечкам По- долии и Волыни — бывшей черты еврейской оседлости, собирая экспонаты для музея, зарисовывая и фотографируя памятники еврейской старины. Вплоть до начала 2000-х гг. имена этих архитекторов мало что значили для арт- иудаики, оставаясь известными лишь в узких кругах одесских краеведов. Архивные поиски, активизировавшиеся на фоне интереса к еврейским музейных коллекциям довоенного времени, показали, что до нас дошла немалая часть их творческого наследия. Это оригинальные рисунки, акварели и фоторепродукции из частных и государственных собраний Украины, России и Израиля, которые отложились там в виде отдельных работ, а также целых комплексов и коллекций. В самой Одессе, в фондах ОИКМ, содержатся графические этюды их раннего студенческого периода. По сведениям В. Солодовой они были переданы из Одесского музея западного и восточного искусства в 1955 г. Собрание насчитывает 18 рисунков и акварелей с видами Одессы: фасады домов, внутренние дворы и пристройки, причем 14 из них выполнены Э. Мальцем. Все они датированы 19211924 гг., когда Хитер и Мальц учились на 1-м и 2-м курсах Одесского художественного института и, вероятно, выполняли учебные задания[1]. Эти работы показывают, как оттачивалась графическая манера и техника молодых зодчих, которой в старой архитектурной школе уделяли огромное внимание, обучая студентов искусству архитектурной графики. Касательно еврейских материалов, упомянем собрание оригиналов работ Хитера и Мальца из Музея архитектуры им. А. В. Щусева (МУАР) в Москве. Здесь хранится серия рисунков застройки Каменец-Подольского (1924), рисунок еврейской улицы Меджибожа (1927) и четыре листа с видами синагог, относящихся к 1925, 1929 и 1939 гг. (авторизованная копия одного из ранних рисунков, 1927 г., сделанного для Еврейского музея). К этому добавим коллекцию фотографий рисунков обоих архитекторов из собрания Центрального архива истории еврейского народа в Иерусалиме (ЦАИЕН). Коллекция содержит около двух десятков фотографий из экспедиции 1927 г. с видами синагог, застройки местечек, построек и надгробий еврейских кладбищ[2]. Значительная часть этих фотографий дублируется в собрании одесского коллекционера Тараса Мак- симюка, которая, по словам владельца, насчитывает 26 позиций [9]. Отдельные работы, в т. ч. и из упомянутых собраний, публиковались в периодической печати и в научных статьях [34, с. 81, 83]. Вместе с тем до последнего времени мы немного знали об этих людях и их сотрудничестве с еврейским музеем. Знания эти ограничивались краткими сведениями из ОИКМ, несколькими публикациями с упоминанием об их работе и наиболее важными документальными источниками — личными фондами Хитера [17] и Мальца [18] как членов Московского отделения Союза архитекторов СССР из собрания Российского государственного архива литературы и искус Н езабываемое общение с дочерью У. Хитера Людмилой Ушеровной Молдавской (1938-2014) в феврале 2013 г., контакты с его внучкой Ксенией Александровной Молдавской, а также знакомство через них с прямыми наследниками Э. Мальца, сыном Виктором Ильичом и внуком Кириллом Викторовичем, позволили приобщить к данной теме уникальные материалы и сведения о жизни их предков и тех далеких событиях[4]. Согласно им, Хитер и Мальц получили среднее и высшее архитектурное образование в Одессе, где работали до конца 1920-х гг. — времени переезда в Москву. В советской столице оба архитектора сполна реализовались в профессии: Хитер — как градостроитель, а Мальц — как гражданский и промышленный архитектор. Они сохранили тесную дружбу до конца дней. История их семей и профессионального пути, как одесского, так и московского периодов, подчеркивает общность и уникальность человеческих судеб XX века, жизнь талантливых людей, искавших свое призвание, прошедших через военное лихолетье, преданных избранной профессии и передавших ее своим потомкам. Сосредоточивая внимание на документах до - военного времени, сохранившихся в семейных архивах, мы можем очертить основные этапы жизни наших героев. Так, личные документы, автобиография и переписка Элюкима Мальца, его биографические материалы из фондов РГАЛИ и устная память семьи свидетельствуют о его жизни и становлении в довоенный, в т.ч. и одесский период. Элюким Азрилевич (Аз- риль-Шмуль) (Илья Израилевич) Мальц (Малц) (1898-1973) был коренным одесситом и проживал в Одессе по адресу: ул. Преображенская, 35, кв. 26. По семейным преданиям, он был активно вовлечен в жизнь творческой молодежи тогдашней Одессы, учился в располагавшемся неподалеку художественном училище (ОХУ) на архитектурном отделении (1914-1918), дружил с Ильей Ильфом. Видимо, общался и со старшим братом писателя, известным художником Александром Файнзильбергом (Сандро Фазини), входившим в группу еврейских модернистов из «Общества независимых художников» (1917-1920) [15, с. 187]. Оба они в одни годы учились в ОХУ, в котором в дореволюционный период обучалось чуть ли не половина евреев [15, с. 18]. Многие из них оставили яркий след в искусстве, разрабатывая в т.ч. и еврейские темы. Опосредованно Мальц был вхож и в круг молодых одесских писателей и поэтов, знал Олешу, Багрицкого, Бабеля, вращался в передовой среде своего окружения. Молодость, крах империи, меняющаяся на глазах жизнь, бурление модернистических идей, социальных и национальных идеалов, а вместе с ними лишения и погромы соединяли революционную романтику с трагическим ми
На нескольких снимках одесского периода, сохранившихся в семье архитектора, он запечатлен со своей женой Рахилью Пинхусовной Ба- ренберг (1909-1983), соучениками по училищу и, возможно, учениками Одесской художественно-профессиональной школы по архитектурной мастерской, которой он руководил и где преподавал два последних года учебы в институте, с 1927 по 1929 г. [22] В период студенчества, как пишет сам Мальц в своей автобиографии 1938 г., он «совершил несколько поездок для зарисовок архитектурных памятников Подолии и Волыни, за что от Совета Института получил поощрение и высшую оценку». Оставленные им сведения о том, что «часть этих работ приобретена музеем Академии архитектуры в Москве», объясняют происхождение того собрания, о котором говорилось выше [23]. Такая же информация, но с более подробной датировкой его поездок по Западной Украине обнаруживается в РГАЛИ. Мальц указывает, что с 1924 по 1936 г. он участвовал в семи экспедициях по изучению, зарисовкам и обмерам памятников архитектуры и скульптуры в Подолии и Волыни. Его коллега Ушер Хаймович (Оскар Ефимович) Хитер (1899-1967) был родом из подольского местечка Мястковки. С детства его тянуло к искусству, и он приехал в Одессу поступать в ОХУ. В училище он обучался вместе Эмилией Шимоновной Герценштейн (1903-1980), студенткой скульптурного отделения, которая впоследствии окончила В Х У ТЕ И Н и с тала известным московским скульптором [20]. Подобно Мальцу, на излете 1920-х гг. Хитер со своей женой переезжают в Москву. И первым его столичным местом работы стала мастерская Б. М. Иофана, ведущего архитектора сталинской эпохи, тоже урожденного одессита и воспитанника ОХУ. Под его началом Хитер принимал участие в работе над проектом Дома правительства в Москве (1927-1931), известного как дом на набережной. Возвращаясь к их студенческим годам, следует указать 1924 г., с которого началась ставшая традицией практика творческих поездок Хитера и Мальца по далекой украинской провинции. В этот и последующие годы они колесили по бывшей черте оседлости в Подолии и Волыни, где изучали, зарисовывали и обмеряли памятники старины и, прежде всего, еврейской культуры. Сохранившийся неподписанный снимок тех лет, который предположительно можно отнести к 1927 г., запечатлел двух молодых архитекторов и, видимо, их со- провожатого около группы старинных мацев во время обследования еврейского кладбища одного из местечек, в котором они работали [20]. Это уникальное свидетельство их интереса к еврейской старине и резьбе надгробий, в частности, о которых они писали и которые остались в нескольких рисунках и репродукциях У. Хитера. Сопоставляя данные Мальца о семи экспедициях по Западной Украине с датировками известных нам работ, можно с определенностью выявить шесть из них. Первая относилась к 1924 г., откуда сохранилось много зарисовок памятников архитектуры Каменца-Подольского, причем большая часть из них не была связана с еврейской средой. Несколько работ дошло до нас из сезона 1925 г. Это рисунки синагоги в Новоконстантино- ве, который облюбовали художники еще с прошлого сезона, и в Хмельнике. С этим местечком была связана отдельная история, которая во многом подстегивала в последующие годы желание ар- хитекторов-художников приезжать в эти края на летний сезон. Видимо, в 1925 г. Элюким Мальц здесь встречает свою будущую жену, которую позднее буквально вырывает из привычного для нее окружения и увозит в Одессу. В семье архитектора сохранился карандашный рисунок Мальца, портрет его жены Рахили, нарисованный в Хмельнике в 1925 г. На протяжении последующих лет, в т.ч. и из своих поездок, Люка (как его называли близкие) пишет письма своей жене в Хмельник, что отражено в сохранившемся письме из Одессы 1926 г. [27], а также в нескольких открытках и письмах из его экспедиции 1927 г. [24-26; 28] В том же городке остается жить и ее родня. Таким образом, Хмельник становится важной точкой, от которой отталкивается сам Мальц и путешествующий с ним Хитер. Среди местечек, в которых они работали Самым насыщенным и плодотворным был 1927 г., о котором еще пойдет речь ниже. 1929 г. оказался последним из одесского периода летних выездов на этюды. Единственный рисунок, дошедший с того времени, это синагога в Хмельнике. Можно предположить, что в это время Мальц улаживал свои дела с семьей жены перед их отъездом в Москву, поэтому он и оказался в этом городке. Два последних точно датируемых года — 1934 и 1936 г. связаны с поездками на Западную Украину уже из Москвы. Здесь мы видим, что наряду с еврейскими объектами авторы много внимания уделяют старым крепостным сооружениям и вообще местным достопримечательностям. Думается, что в этих поездках было больше ностальгии по прежним студенческим временам, а также желание проведать своих родных в подольских местечках (Мальцу — в Хмельнике; Хитеру — в его родной Мястковке и почти соседней Песчанке, где проживала семья его жены). Седьмой год их поездок точно датировать сложно. Можно предположить, что это мог быть 1926 г. в один из студенческих летних сезонов. Это был год бурного развития отношений Мальца с его женой после знакомства в 1925 г., непрерывной переписки и, соответственно, поездки в Хмельник [27]. Однако нам не удалось найти рисунков этого года, да и письмо Хитера к своей жене из Горловки (24 сентября 1926 г.) свидетельствует, что в этот год он находился в Донбассе, причем, видимо, со своим другом Мальцем [21]. Последний упоминает об этом в автобиографии, что в 1926 г. он был десятником студенческих практик в строительном бюро Донугля (Донбасс, Горловка) [23]. Вышуказанная поездка по местечкам вполне могла прийтись и на начало 1930-х гг., что диктовалось стремлением периодически навещать свою подольскую родню. Оставляя эти рассуждения за скобками, мы сосредоточим внимание на наиболее продуктивном 1927 г., к которому относится большая часть имеющихся материалов, а также письма. Видимо, в этот год неслучайно активизировалась их работа и был открыт еврейский музей в Одессе. 1927 г. был экономическим апогеем политики нэпа, первым юбилеем октябрьской революции, когда население почувствовало плоды социальных реформ и культурного возрождения. Уже в следующем году в ходе свертывания нэпа, новой волны национализации и репрессий эта ситуация меняется, хотя до начала 1930-х гг. в сфере национальной политики страны особых перемен не наблюдалось. Тогда же в Одессе инициируется активная краеведческая работа. При Одесском институте народного образования также планировалось открыть среди прочих семинар по еврейской культуре с секциями по литературе, истории и языку в рамках задачи изучения студентами истории и культуры народов Одесщины. Его возглавлял С. Х. Билов (1888-1949), активист еврейского политического движения, лектор, педагог, общественник, литературовед и историк театра. При том же ОИНО рассматривался вопрос о введении в план другого семинара, социальноэкономической истории Украины, предмета «История евреев на Украине» и пр. И хотя эти проекты не были реализованы, они показали всплеск интереса к еврейской культуре в этот период [7; 8, с. 18]. В том же 1927 г. в Виннице на подольских землях другой энтузиаст, Г. В. Брилинг (18671942), организует экспедиции по сбору материалов еврейской старины и культуры для Винницкого краеведческого музея, собирает уникальную коллекцию еврейских пряничных досок, т.н. «пурим-бретль» и даже планирует выпустить совместный каталог с одесским еврейским музеем [2, с. 252-259; 13, л. 4-5]. В 1928 г. открывается отдел еврейской культуры при Полтавском государственном музее [4, с. 37]. В целом во второй половине 1920х гг. начинается настоящий бум украинского музейничества, исследования украинского, а с ним и еврейского искусства. Это нашло отражение в экспедициях, документах, фотоматериалах, экспонатах, статьях и даже еврейских отделах в некоторых музеях, которым тогда так и не суждено было стать фундаментом еврейской этнографической науки. Не позволило время и репрессии, затронувшие почти всех, кто приоткрыл двери в уходящий мир еврейской старины. Среди них Д. Щербаковский, П. Жолтовский, В. Гагенмейстер, К. Кржеминский, Г. Брилинг, Т. Молчановс- кий, Н. Коцюбинская, Л. Левицкая и мн. др. [5; 11] На этой волне оказались и двое молодых архитекторов, направившихся в мае 1927 г. по бывшим еврейским местечкам. В этот год экспедиции проходили по Мед- жибожу, Бердичеву, Изяславу, Полонному, Староконстантинову и авторы прицельно рисовали еврейские памятники: синагоги, еврей Одно из писем, датированное 22 мая 1927 г., было написано в Изяславе, где тогда работали Хитер с Мальцем [26]. Видимо, четко спланированного маршрута у путешественников не было, и они меняли свой план на ходу, ориентируясь на советы местных жителей, полученные в поезде. Так, вместо Шепетовки, куда сперва направлялись два друга, они поехали в Изяслав, о котором знали по книгам, что он сулил много достопримечательностей и где было «много интересной и своеобразной архитектуры». Открытка, написанная в Меджибоже 1 июля, свидетельствует, что оба путника остановились в той же квартире, что и два года назад, в 1925
Последнее письмо, сохранившееся в семье архитектора, было начато 11 июля в Деражне и завершено на следующий день в Старокон- стантинове [28]. Оттуда мы узнаем, что в Ста- роконстантинове Мальц «с Ушером и Мишей [? — возможно, именно он запечатлен на вышеупомянутой фотографии. — Е. К.] ходили устраивать дела по вывозке еврейских памятников». Речь здесь, видимо, шла о вывозке наиболее интересных еврейских надгробий для еврейского музея в Одессе. И далее неожиданнім образом Мальц вновь обращается к их недавней работе в Меджибоже: «Последние дни в Меджибоже провели с большой пользой и интересом. Во-первых, нам удалось зарисовать замок, это замечательное украшение Подолии, во многих видах, чем остались очень довольны. Получили в подарок музею [единственное упоминание в переписке о музее! — Е. К.] интересные вещи, сделали 15 фотографических снимков на негативах с разных вещей и мебели Мальц также указывает на примечательную деталь, подчеркивающую их желание выделиться внешне из общей среды и снискать в глазах местного население особый интерес к своим персонам: «Мы решили пошить себе все одинаковые синие блузы и носим их теперь без поясов. Блузы получились очень хорошие и дешевые по 3рн. штука. Производят потрясающее впечатление на местных жителей. В Ст-Константинове будем еще только 2-3 дня и отсюда едем в По- лонное». Итак, на основе этой фрагментарно дошедшей корреспонденции мы можем установить фрагмент их маршрута с конца мая до июля- августа 1927 г., который проходил по местечкам Казатин (пересадочная станция), Изяслав, Меджибож, Деражня (пересадочная станция), Староконстантинов и далее лежал в Полонное и Бердичев. Это, пожалуй, все, что мы на сегодня можем сказать об обстоятельствах их поездок по бывшим еврейским местечкам. Судя по интенсивной работе экспедиции, о которой говорится в письмах, то, что дошло до наших дней, — сущие крохи от сотен рисунков и фотографий, которые были сделаны этими людьми за 1927 г. и весь период экспедиций. Анализируя рисунки всех тех лет, у нас нет однозначной уверенности, что все они были сделаны именно для еврейского музея в Одессе, особенно в первые годы. Во-первых, архитекторы не ограничивались только еврейской стариной и фиксировали в рисунках и акварелях то, что им представлялось интересным из окружавших памятников. Об этом свидетельствуют рисунки Э. Мальца, сохранившиеся в семейном архиве (к сожалению, подобных рисунков У. Хитера в семье архитектора не сохранилось). Представляется, что для студентов младших курсов архитектурного института было вполне естественно в качестве летних практик работать с натуры над архитектурными пейзажами. Тем более что выезды по украинским городам, в частности, на Подолию и Волынь были частью учебной программы института [33, с. 41-42]. С другой стороны, работа над комплектацией будущего еврейского музея началась еще в начале 1920-х гг., постепенно усиливаясь и вовлекая все больше людей в ряды своих сторонников. Соответственно, молодые архитекторы уже в первые годы поездок могли быть вдохновлены на эту захватывающую работу организаторами музея, в частности, П. Сегалом [31, с. 251]. Но наиболее интенсивная деятельность пришлась именно на 1927 г. — время активизации сбора для него экспонатов и материалов, о чем упоминает в одном из писем жене Элюким Мальц. Музей торжественно открыли 6 ноября 1927 г., а весь летний сезон накануне два молодых архитектора занимались пополнением его коллекции в бывшей черте оседлости. Думается, что в 1930-е гг. тесная связь с музеем прекратилась. В основном поездки осуществлялись по «старой памяти», для творческого отдыха и проведывания родных. Практически все сохранившиеся рисунки этого времени остались в Москве. Ни в одной из своих автобиографий Мальц не упоминает о том, что эти поездки были связаны со сбором материалов для еврейского музея. Видимо, на это были свои причины. Волна репрессий 1930-х гг., прокатившаяся по всей стране, особенно жестко затронула творческую интеллигенцию Украины, причастную к развитию национальной культуры и искусства. Подавляющее большинство директоров и сотрудников краеведческих музеев были уничтожены физически или подверглись лишениям и арестам [11, с. 73]. В частности, был расстрелян директор (позднее главный хранитель) самого одесского еврейского музея Бенцион Рубштейн (1882-1934), который в 1927 г. за месяц до открытия музея сменил на этом посту упомянутого П. Сегала [10, с. 158; 31, с. 251]. Подверглись репрессиям многие активисты еврейского образования в Одессе [7]. И, быть может, именно тот факт, что оба архитектора еще задолго до этого покинули Украину и интегрировались
по своей прямой профессии в процесс социалистического строительство спас их от участи многих быших коллег. Сохранившиеся рисунки и репродукции с видами еврейских памятников и фрагментов местечковой застройки отражают документальную достоверность — то, что отличает манеру архитекторов от художников, но вместе с тем подчеркивают мастерство исполнения, а в отдельных случаях и образный колорит графического этюда. Большинство работ выполнены графитным карандашом на бумаге. Именно рисунок был основой этюда, а акварель, которой нередко пользовались оба архитектора, добавляла немного цвета, оживляя скупую графику. Даже пристально вглядываясь в их работы, трудно найти принципиальную разницу в мастерстве обоих художников и их манере исполнения, — здесь сказывается единая школа и выучка. Особо подчеркнем историческую и культурную ценность этих работ как документальных источников бытования позднее утраченных памятников. Виды Бердичева, Изяслава, Хмельника, Полонного, Меджибожа, Старокон- стантинова, Новоконстантинова, Немирова и других городов, запечатлевшие экстерьеры и интерьеры синагог, еврейские улицы и дома, в т.ч. раввинов, надгробия с резным декором, саркофаги и характерные кладбищенкие постройки — огели над могилами раввинов — все эти изображения с учетом последующего исчезновения этого пласта еврейской культуры буквально «на вес золота». Небольшая часть изображенных ими зданий известна и по другим источникам — рисункам и фотографиям 1910— 1920-х гг. К таковым относятся виды синагог в Изяславе и Полонном. Любопытно, что сохранившиеся два изображения синагоги в Полонном практически идентичны, но принадлежат разному времени. Одно из них — репродукция работы 1927 г., а другое — рисунок из МУАР 1939 г., подписанный как авторизованная копия вышеуказанной работы, которая хранилась в еврейском музее в Одессе [3]. С одной стороны, это единственный случай, где автор сам указывает на принадлежность оригинала еврейскому музею, а с другой — тот факт, что его копия была специально сделана по заказу музея архитектуры. Очевидно, что памятники еврейской архитектуры вызывали большой резонанс, коль скоро подобные изображения заказывались такой солидной государственной организацией. Наличие изображений известных синагог позволяет проследить изменение их архитектурного облика за последние десятилетия их жизни и использования еврейскими общинами «по прямому назначению». Эти годы как раз пришлись на период Первой мировой и гражданской войн, и подобные изменения, реконструкции и перестройки коснулись почти всех синагог, которые находились в зоне театра боевых действий и противоборствующих сторон. Другая, бо'л ьшая часть работ уникальна тем, что доносит до нас облики неизвестных по другим изображениям памятников — внешних видов синагог (Новоконстантинов), а также их интерьеров (Хмельник, Староконстантинов, Бердичев), исторической застройки, кладбищенских построек и надгробий. Подобный разбор рисунков можно продолжить и на конкретных примерах, показывая их типологические черты и региональные особенности. Многолетняя систематическая работа Хитера и Мальца по фиксации в натурных рисунках еврейских памятников не была чем- то уникальным с точки зрения обращения к еврейской старине. Десятки художников, графиков и живописцев в начале XX века и в межвоенное время изображали ее с натуры, использовали фотографический материал, подчеркивали документальность или, наоборот, уходили от нее, создавая художественный образ старого еврейства — земной и величественный, мистический, трагический или фольклорный. Среди этих имен С. Юдовин, М. Шагал, И.-Б. Рыбак, А. Маневич, М. Фрадкин, Б. Бланк и мн. др. Часть из них, подобно Хитеру и Мальцу, стремилась запечатлеть их исторический облик в естественной среде бытования. Один из них — русский историк, художник и искусствовед Г. Лукомский, автор монографии о европейских синагогах [35] и десятков рисунков синагог, в т.ч. на украинских землях [36]. В этом ряду стоит и полузабытое имя белорусского художника Я. Круге- ра, участника этнографической экспедиции 1921 г., оставившего акварели с видами ряда синагог Беларусии [6]. В самой Украине в подобном ключе на рубеже 1920- 1930-х гг. работал архитектор Н. Топорков, автор сотен рисунков построек западноукраинской провинции, в т.ч. еврейской застройки Подолии: домов, заездов, корчемен и пр. [16]. Но в отличие от вышеназванных и многих других, У. Хитер и Э. Мальц рассматривали свои этюды и всю работу как целенаправленный проект, который реализовывался как одна из открытых программ государственного еврейского музея. Также внезапно, как завершаются письма Элюкима Мальца, обрывая для нас нить в прошлое, завершается и это повествование. Выведенные на свет данные об Ушере Хитере и Элюкиме Мальце, а также попытка реконструировать контекст их работы над фиксацией памятников еврейской старины, в т.ч. и для еврейского музея вписываются в широкую панораму интереса многих ученых, музейщиков и художников к еврейскому наследию в межво- енное время. Обнаруженные рисунки и документы отчасти восполняют утраченный пласт еврейской культуры, расширяют источниковую базу изучения довоенного наследия еврейских музеев и коллекций, возвращают из забвения имена и вклад отдельных энтузиастов, благодаря которым многовековая культура еврейского народа не была полностью стерта и стала бесценным фундаментов для современных исследований.
Источники и литература
10. Лукин В. От народничества к народу (С. А. Ан-ский — этнограф восточно-европейского еврейства) // Евреи в России: история и культура: сб. науч. тр. — СПб., 1995. — С. 125- 161. 11. Лукин В. Традиционное еврейское искусство глазами украинских краеведов // Канон и свобода. Проблемы еврейского пластического искусства. — М., 2003. — С. 71- 84. 12. Научный архив Института археологии НАН Украины (далее — НА ИАНУ). — Ф. ВУАК. — Д. 330. — Ед хр. 20- 23.
14. Национальный художественный музей Украины. — Документально-архивный отдел. — Ед. хр. ГРС-10395. 15. Общество независимых художников в Одессе: био- библиографический справочник / сост. О. М. Барковская. — Одесса, 2012. — 216 с. 16. Пламеницька О. Деяки риси архітектури подільських міст і містечок за матеріалами колекції Миколи Топоркова // Архітектурна спадщина України. Питання історіографії та джерелознавства української архітектури /за ред. В. Тімофієнка. — К.: Українознавство, 1996. — Вип. 3, ч. 2. — С. 189- 198. 17. РГАЛИ. — Ф. 2466 (Московское отделение Союза архитекторов СССР (МОСА) (1936- 1991). — Оп. 5. — Ед.хр. 916. Личное дело Хитер Ушера Хаймовича, 1899. (19 ноября 1946- 14 июля 1967). — 17 листов. 18. РГАЛИ. — Ф. 2466 (Московское отделение Союза архитекторов СССР (МОСА) (1936- 1991). — Оп. 6. — Ед.хр. 186. Личное дело Мальца Ильи Израилевича, 1898. (8 декабря 1945- 11 марта 1973). — 20 листов. 19. Романовська Т. Доля єврейського ритуального срібла з колекції Музею історичних коштовностей України // Доля єврейської духовної та матеріальної спадщини в XX столітті: збірник наукових праць за матеріалами IX Міжнародної наукової конференції. Київ, 28- 30 серпня 2001 р. — К.: Інститут юдаїки, 2002. — С. 259- 265.
21. САПУХ. Письмо У. Хитера к жене Э. Герценштейн. Горловка, 24 сентября 1926 г. 22. Семейный архив потомков Элюкима Мальца, Москва (далее — САПЭМ). 23. САПЭМ. Автобиография И. И. Мальца. 9 мая, 1938 г.
26. САПЭМ. Письмо Э. Мальца к жене Р. Баренберг. Изяс- лав, 22 мая 1927 г. 27. САПЭМ. Письмо Э. Мальца к жене Р. Баренберг. Одесса, 11 января 1926 г. 28. САПЭМ. Письмо Э. Мальца к жене Р. Баренберг. Ста- роконстантинов, 13 июля 1927 г.
30. Солодова В. Документальные источники о судьбе коллекции иудаики Одесского музея еврейской культуры им. Менделе Мойхер-Сфорима // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — Харків: хДаДМ, 2010. — № 8 (Сходознавчі студії. Вип. 3: Єврейське мистецтво і український контекст. Обрії традиційної художньої культури). — С. 310-331.
33. Солодова В. Художественная жизнь Одессы. 1920-е — 1930-е годы // Вестник Одесского художественного музея. — Одесса: Плутон, 2014. — № 1. — С. 40- 42. 34. Kravtsov S. R. Gothic Survival in Synagogue Architecture of the 17th and 18th centuries in Volhynia, Ruthenia and Podolia // Architecture. Zeitschrift fur Geschichte der Baukunst. Journal of the History of Architecture. — 2005. — Vol. 1. — P. 69- 94. 35. Lukomsky G. Jewish Art in European Synagogues / G. Lu- komsky. — London, 1947. 36. Lukomski [Loukomski] Georges [George] K. An Exhibition of Drawings in Crayon, Gouache and Water-Colours of Old European Synagogues. — London, 1935. 37. Schechtmann J. Das Allukrainische Staatsmuseum fur ju- dische Kunst auf den Namen von Mendele Mojcher Sfurim in Odessa // Menorah. JUdisches familienblatt fur wis- senschaft / kunst und literature. — Wien; Berlin, 1932. — X. Janrgang; Nr. 9/10. — S. 393- 394. Фото, см.: S. 377, 378, 395, 396.
Usher Chiter and Elyukim Maltz: chasing the lost expeditions of the Jewish Museum in Odessa E. Kotlyar The article studies the pre-War period in the life and work of two architects, Usher Chiter (1899-1967) and Elyukim Maltz (1898-1973), both graduates of the Odessa School of Architecture. The time span in question was bound up with work done by the architects for the Mendele Mocher Sforim All-Ukrainian Museum of Jewish Proletarian Culture in Odessa. Based on documents and visual materials from a number of museums and archives located in Ukraine, Russia, and Israel, as well as on private collections, including those of the architects’ families living in Moscow, where Chiter and Maltz had moved in the late 1920s, we have attempted to trace and reconstruct the architects’ artistic research expeditions along the former Pale of Jewish Settlement. A total of seven field trips took place in parts of Western Ukraine — to Podolia and Volhynia — with the aim of collecting materials and exhibition items for the museum and of making original drawings and water colors from nature showing views of Jewish landmarks, such as synagogues, cemeteries, and residential housing construction. Six of these trips have been successfully dated with precision; we have also been able to trace the particularly extensive and productive research expedition of 1927, including an exact fragment of the expedition’s itinerary, in connection with surviving letters, as well as original works and reproduced copies. Keywords: Jewish museum, Odessa, collection, Usher Chiter, Elyukim Maltz, expedition, drawings from nature, Pale of Settlement, synagogues, cemeteries, housing construction. |